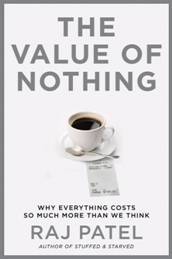
ЦЕННОСТЬ НИЧЕГО
СТАНОВЛЕНИЕ HOMO ECONOMICUS
В такие вот чумные времена
ведут умалишенные слепых.
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР
«Король Лир»
ЧУДОВИЩЕ МИЛЛЯ
Рыночное общество не просто превращает вещи в товары, оно создаёт свою культуру: рыночные представления о человеческой природе и общественном строе. Воплощение этой культуры – человек, которого никто никогда не видел. Его сотворил один из главных представителей классической политэкономии в девятнадцатом столетии, Джон Стюарт Милль, который надеялся своим творением пролить свет на туман человеческого непостоянства, чтобы найти более глубокую правду о нас.
Выковывая новые, научные способы мышления о мире, Милль полагал, что несколько упрощающих гипотез помогут открыть более глубокую действительность о том, как люди себя ведут и взаимодействуют. Геометрия даёт гипотетическое определение линии, «то, что имеет длину, но не имеет ширины». Милль думал, что общественные науки тоже могут использовать гипотетическую модель человека:
«В стиле геометрии, политэкономия даёт определение: человек – это существо, которое неизменно делает то, посредством чего он может получить самое большое количество предметов первой необходимости, удобств и роскоши, с наименьшим количеством трудовой и физической самоотверженности, с которой они могут быть получены при существующем состоянии знания».1
/26/ Милль сделал разумное предположение, что, в целом, люди не тратят ресурсы напрасно, а используют их наилучшим образом, чтобы получить желаемое. Но «существо» сформулированное Миллем, обрело свою собственную жизнь. Познакомьтесь: homo economicus, человек экономический, движимый желанием сделать всё возможное из того что имеет, чтобы получить то, что он хочет. Милль признавал недостатки предложенного им упрощения. И предупреждал, что «лишь теоретически», результаты этого метода можно счесть правильными. Страницей ниже в своём эссе «Определение политэкономии», однако, он, кажется, противоречит себе, предполагая, что его метод является «единственным методом, с помощью которого можно выяснить истину в любом разделе социологии».2 Эта уверенность была принята близко к сердцу одним из гигантов экономической мысли двадцатого века, Гэри Беккером.
Протеже Милтона Фридмана, древнего столпа на факультете экономики Чикагского университета, Беккер в своём опусе от 1976 года «Экономический подход к человеческому поведению», утверждал, что «экономический подход обеспечит полезный механизм для того, чтобы понять всё человеческое поведение».3 Во всём диапазоне предметов: от обычной экономики до иммиграции, тюрем, расовой дискриминации, бейсбола, семьи, времени и демократии – Беккер применил инструменты экономического мышления. Можно считать его отцом-основателем Свободоэкономики (Freakonomics). За свой вклад, Беккер получил Нобелевские премии по экономике в 1992 и 2007 гг. Джордж Буш наградил его Президентской медалью Свободы, самой высокой гражданской наградой, существующей в Соединённых Штатах. Беккер рассказывал, что, будучи студентом в Принстоне, он устал от экономики. Потому что, «казалось, она не имеет отношения к важным общественным проблемам. Я собирался переходить на социологию, но нашел этот предмет слишком трудным».4 Сегодня в социологии не осталось областей, не затронутых мышлением Беккера. И в начале 1980-х он возглавил объединённый факультет экономики и социологии в Чикагском университете.
/27/ Экономический метод Беккера включает в себя три идеи. Первая – всех и вся низвести до животного уровня. О людях, о государствах и корпорациях можно думать, как о Homo economicus. А значит, они делают всё возможное из ресурсов, которые имеют, чтобы получить как можно больше вещей. Вторая идея: поведение типа Homo economicus происходит на рынке определённого сорта. Третья идея: метод Беккера требует отдавать предпочтение Homo economicus в любом обществе и при любых обстоятельствах.5 Одно из самых первых применений такое мышление нашло в труде о демократии. В совершенной демократии «люди пытаются занять политические должности посредством свободной конкуренции за голоса широких слоёв электората».6 Другими словами, совершенная демократия должна действовать, как совершенный рынок. С избирателями в качестве покупателей, вооружённых избирательными бюллетенями вместо долларов. Беда в том, что это низводит дело гражданина до одного из двух принудительных выборов. Как выбор одного из двух сортов стирального порошка. При этом гражданин не вникает, почему положение вещей является таким, а не иным.
Консервативный анализ Беккера становится еще более спорным, когда он применяет экономические инструменты по отношению к семье. Так как браки добровольны, предполагается, что люди увеличивают личную выгоду, по сравнению с той выгодой, которую они имели, пока были холосты. А поскольку множество людей это делает, то можно предположить существование брачного рынка. Беккер также предполагает, что для брака существуют причины, выходящие за рамки конкретной человеческой культуры. Где бы вы ни жили, «влюблённые люди могут уменьшать стоимость частых контактов и средств, передаваемых друг другу, путём совместного ведения домашнего хозяйства».7 Со своими тремя догматами экономического метода, удобно ему подходившими, Беккер принялся за работу. Он демонстрирует, как складывая богатства перспективных партнёров в одно целое: такие вещи, как красота, интеллект и образование – можно получить выгоду. Эта выгода объясняет «почему менее привлекательные или менее интеллектуальные люди женятся с меньшей вероятностью, чем более привлекательные или более интеллектуальные».8 Он пишет в примечании, что заявление о привлекательности не основано на каких-либо статистических данных. Но считает возможным спрашивать в более поздней публикации: «Оправдывает ли наш анализ популярное мнение, что более красивые, очаровательные и талантливые женщины склонны выходить замуж за более богатых и успешных мужчин?.. – Да, оправдывает».9
/28/ Многобрачие также подвергается анализу. Сравнивая его с единобрачием, Беккер показывает на диаграмме спроса и предложения, как женщины более обеспечены в обществе, где мужья могут иметь много жен. Женщины, которые были бы отвергнуты в качестве чьей-то первой жены в условиях единобрачия, могли бы кое-что получить для себя в качестве второй или третьей жены.10 Самое филантропичное объяснение этого вывода стало гордостью Беккера. Как отмечает экономист Барбара Бергманн, он обходит вопросы власти, традиции, а также индивидуальности. Беккер игнорирует вопрос, почему женщины в полигамных отношениях чувствуют себя хуже, чем в моногамных? На полном серьёзе, он заканчивает так: «как лояльный житель Чикаго, я доказываю, что государственные ограничения на торговлю, (в данном случае законы против многожёнства) уменьшают благосостояние общества».11
Правительственные ограничения на торговлю стали мишенью Беккера позже, в его призывах за торговлю человеческими органами (дескать, общественное благосостояние увеличилось бы, если бы богатые могли заплатить бедным за их почки). А так же в его выступлениях за иммиграцию (по его мнению, право переехать в Европу или Северную Америку лучше всего продавать с аукциона, поощряя иммигрантов правильного сорта, заодно набивая государственную казну).
/29/ Выводы Беккера, конечно, весьма вызывающие, но все они вращаются возле мелкой кучки его гипотез. Позволить Homo economicus делать всё что пожелает, дать беспредельную свободу, чтобы господствовал рынок – по расчетам Беккера, это увеличит благосостояние. Хотя есть масса проблем. Давайте на время оставим в стороне вопросы о справедливости и политике, которые напрашиваются при таком подходе, поскольку проект Беккера шаткий, по его собственным словам. Как рады отметить поведенческие экономисты, аргументы Беккера, преувеличивающего поведение Homo economicus, необоснованны, по крайней мере пока они применяются к людям. Профессор психологии Дэн Арилай, например, в своей книге «Предсказуемо иррациональный» показывает, что таких людей, как Homo economicus Беккера, вообще не существует.
Человек повсеместно нелогичен. Третья гипотеза Беккера о предпочтении Homo economicus, причем в любом обществе, не выдерживает критики. Во многих туземных культурах североамериканских индейцев главная особенность поведения в расширенной общественно-экономической системе – щедрость. В одном забавном исследовании сообщалось, что произошло, когда белые мальчики и мальчики из племени Лакота получили по два леденца каждый. Первый леденец все мальчики отправили себе в рот. Второй леденец белые мальчики положили себе в карманы, а коренные американцы отдали вторые конфеты ближайшим детям, у которых не было ничего.12 Не трудно понять, что способы накопления и распределения ресурсов формирует культура. Западная культура заставляет не делиться, а накапливать. Но этот эксперимент также напоминает нам, что противоположность расточительству не накопительство, а щедрость.
Другие эксперименты более подробно исследовали культурное отношение к щедрости белого общества Северной Америки, с помощью игры «Общественное благо». Игра заключается в следующем: я даю вам (и многим другим участникам) горсть жетонов, и говорю вам, что вы должны выбрать один из двух способов их вложения. Вы можете вложить все или часть из них в мой банк, тогда вы будете получать гарантированный процент, одну копейку за каждый жетон. Но вы можете инвестировать все или часть жетонов в общественную казну. Общественная казна платит каждому, независимо от того, вкладывали вы в неё или нет. Но чем больше поступлений в общественную казну, тем больше выплаты каждому. Не требуется много жетонов в общественной казне, чтобы платить каждому больше, чем одна копейка за жетон. Общественное благо логично подсказывает вложить 100% в общественную казну. Но лично вы можете рассчитывать, что все остальные вложат 100% в общественную казну, в то время как вы вложите 0%. Тогда вы получите большие общественные выплаты, плюс по копейке за жетон с личного банковского счёта.
Когда учащиеся средней школы в Висконсине играли в эту игру, они вели себя не как Homo economicus, который вложил бы в общественную казну 0%. В отличие от него, школьники вкладывали в общественную казну 42%. Экспериментаторы меняли всё: от списка выплат, до числа людей в группе. Но сумма общественного вклада оставалась примерно одной и той же. Они проделали это с коллективом учащихся колледжа, результат остался прежним. Перепробовали все возможные перестановки, какие смогли придумать экспериментаторы. Только один раз общественный вклад упал до 20% – когда в эту игру сыграли дипломированные выпускники института экономики.13
/30/ Поведенческая экономика предлагает вариант этой игры, который называется «Ультимативная игра». Вам дают 100 долларов, а вы делите их на две пачки. Вы берёте на себе пачку А, я беру себе пачку Б. Как только вы разделили счета, я могу либо принять то, что вы сложили в пачку Б, тогда вы получите пачку А. Либо я могу отвергнуть пачку Б, и тогда никто из нас ничего не получит. Теперь, когда это больше не игра, от которой, возможно, остались смутные детские воспоминания, она кое-что объясняет в ткани нашего общества. Как правильно поделиться наличными? Логично вам взять себе как можно больше, а мне дать как можно меньше. Может быть один доллар или один цент. Потому что, опять-таки логично, один цент для меня лучше, чем ноль центов, и мне лучше получить хоть что-то, чем совсем ничего.
/31/ Но большинство людей, играющих в эту игру, ведут себя по-другому. Они либо делят деньги пополам, либо оставляют себе 60 процентов, отдавая 40. Но в некоторых культурах этот обмен действует вообще вопреки стандартной логике. Жители острова в восточной Индонезии, охотники на кита из рыбацкого посёлка Ламальера, играли в эту игру с сигаретами вместо денег (во избежание азарта). Они оставляли себе в среднем 43%, отдавая 57%. Исследователи предположили, что так происходило потому, что игра отражала привычку к щедрости и справедливости, бытующую в общине Ламальера, где охота на кита – это коллективное усилие всей общины.14 После того, как кит убит, следует обязательный ритуал справедливого разделения добычи.
Ни в одной культуре, где играли в эту игру, люди не вели себя на 100% эгоистично, хотя степень коллективизма широко варьируется. Когда играли в джунглях юго-восточного Перу, где племя Мачикуэнда занимается полукочевым земледелием, у них сотрудничество гораздо ниже. И здесь люди отдавали от 25 до 15%, оставляя себе остальное. Опять-таки это поведение приписано общественному устройству, которое предлагает очень небольшое вознаграждение за сотрудничество.15
В целом, различные результаты этой игры зависят от того, как общество вознаграждает за сотрудничество. И одним из самых сильных предсказателей сотрудничества было то, участвуют ли люди в рыночных операциях, покупают и продают ли они вещи за пределами своей семьи или посёлка. Другими словами, хороший предсказатель сотрудничества, подходящий для такого рода игр – это участие в обмене, и участие денег в других ситуациях. Это – важный ключ. Сам обмен не мог стать источником проблемы при объяснении нынешнего экономического кризиса – проблема заключена в системе, окружающей акт обмена.
Есть ещё одна причина, по которой людям плохо на пути становления Homo economicus. Недавние эксперименты в неврологии и приматологии показывают, что мы вовсе не прикованы к полному эгоизму. Наряду с эгоистичными желаниями и жадностью, люди развили сложные нормы поведения, которые включают альтруистичные желания и жажду справедливости. Один из способов обнаружить это – сканирование головного мозга, которое, вопреки возражениям, предлагает некоторые наводящие на размышления данные эксперимента.16 В эксперименте людям предоставляли ряд выборов: взять деньги себе, или претерпеть некоторые финансовые потери, проявляя милосердие. Те, которые активизировали часть своего мозга, связанного с едой и сексом, брали деньги себе. Те, которые активизировали совсем другую часть мозга, имеющую отношение к преданности и привязанности, дарили деньги малоимущим.17
/32/ Это опровергает расхожее мнение, что альтруизм – всего лишь форма скрытого эгоизма. Так как участвуют разные части мозга, то это процессы, по меньшей мере, физиологически, разные. Эволюция предполагает, что альтруизм – это разновидность других, неэгоистических норм поведения, имеющих самостоятельную ценность. Общественные отношения на основе взаимного альтруизма помогают нам выжить. Например, исследования, проведённые с американскими волками, показали, что члены стаи, которые отказываются быть частью общественной группы, склонны покинуть стаю и преждевременно погибнуть с вероятностью 55%. В отличие от 20% вероятности для оставшихся в стае.18 Ещё одно доказательство, что мы не законченные эгоисты, пришло от наших ближайших по эволюции родственников, приматов. Один из пионеров в этой области научных исследований, Франц де Вааль, наблюдал взаимодействия шимпанзе, обменивающихся друг с другом разной «валютой», оказывающих друг другу услуги пищей и другими любезностями. Шимпанзе были вполне способны прослеживать, кто кому что сделал, отдавая и беря справедливо. Цитирую Вааля: «В людях, этот психологический механизм известен как благодарность, и нет причин называть его как-то иначе у шимпанзе».19 Благодарность не характерна для Homo economicus.
Благодарность – не единственная черта, которую приматы разделяют с нами. У них также есть врождённое чувство справедливости. Во время экспериментов с обезьянами капуцинами и шимпанзе, двум обезьянам давали жетоны. Одна обезьяна обменивает жетон на виноград – награду высокой ценности, а в это время другая обезьяна, субъект эксперимента, наблюдает. /33/ Сразу после этого, субъекту эксперимента за жетон дают менее желанную награду – огурец. Если им давали ту же вещь, как их партнёрам, субъекты капуцины и шимпанзе, торгуя жетонами, относились к ним, как к предметам максимальной полезности. Но если с ними обращались нечестно, они потом отказывались совершить сделку даже более заманчивую.
Более того, когда первой обезьяне давали вещи «бесплатно», без обмена на жетоны, вторая обезьяна-наблюдатель ещё с большей вероятностью уклонялась от сделки. Что это доказывает? Обезьяны капуцины рады сотрудничать. Но, похоже, их раздражает несправедливость: либо в наградах (разница между виноградом и огурцами), либо в поведении (не требовались усилия обмена за жетоны). В экспериментах с группами шимпанзе, долгое время проживавших совместно, эти шимпанзе вели себя наиболее коллективно. Чем неторопливее и совещательнее была шимпанзе, тем резче она возмущалась на неравенство.20 Другими словами, самое основное требование детской песочницы «Это несправедливо!» мы разделяем с нашими ближайшими родственниками из животного царства. Это «отвращение к несправедливости» можно обнаружить даже у собак.21
Шимпанзе даже наказывают друг друга за обман. Шимпанзе, обманувшую другую, может ожидать своего рода возмездие, начиная с крепкой оплеухи по морде и вплоть до полного отказа в предоставлении еды. Наказание за антиобщественное поведение – краеугольный камень в фундаменте справедливости, и способ коллективного управления среди шимпанзе.
Люди имеют преимущество перед шимпанзе, потому что мы умеем не только наказывать, но способны и помиловать. Это демонстрирует поразительная серия экспериментов, когда вас просят положить немного денег на мой счёт. Сумма растёт, и вы можете затем выбирать, сколько я должен вам вернуть, угрожая мне выбором штрафа, если я не сотрудничаю. Если вы не угрожаете мне штрафом, я склонен возвращать больше денег, чем когда возникает угроза штрафа. /34/ Так что возможность наказывать по личному произволу не укрепляет сотрудничество и доверие.
Эти эксперименты доказывают, что хотя наши гены могут быть эгоистичными, мы научились передавать в них способы сотрудничать, обобществлять, создавать и сохранять общины, любить и делиться. В отличие от «человека экономического», люди ценят доброту, справедливость, доверие, альтруизм и взаимность, себе же на пользу. Homo economicus имеет лишь утилитарный интерес к этим ценностям. Но недавние исследования показывают, что наша способность дорожить внутренними ценностями (щедрость, подельчивость и бескорыстие) максимально увеличивает наше благополучие.